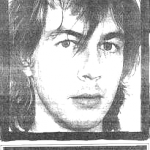Карапет Сасунян. Как заработать 7 миллионов в Чечне. Окончание
|
И снова в силосной яме, где мне никто не рад: лишний человек у печки. Голод, видимо, помутил мой разум, и я, не видя никакого выхода, был на краю помешательства. Саратовцы стараются вытолкнуть меня от печки, но я понимал, что это равносильно смерти, и пристроился между их ногами и печкой. К тому времени некоторые уже имели лежаки для ночлега. Я опять стал выходить на сбор черемши: группа пленных за два-три часасобирала мешок растений. Незаметно пронося с собою, я варил её в своем котелке. О том, чтобы поесть её самому — не могло быть и речи: кругом сыпались просьбы: «Дай кусочек, поделись…» Я оклемался настолько, что попросился в поход за кирпичами для строительства бани для чеченцев, надеясь чем-нибудь поживиться на развалинах усадьбы, расположенной в часе ходьбы от лагеря. Не назад я еле дополз — в буквальном смысле этого слова. Особист рычал: «Я тебя, армяна, удавлю в лагере, когда дойдёшь». Хорошо ещё, что охранник попался терпеливый, он волочился за мною, поторапливая лишь словами. И я донёс в лагерь свои два кирпича. Ещё в молодые годы, работая грузчиком в порту, перекидал горы мешков, но тяжелее этой пары кирпичей в моей жизни ничего не было. Олег Зенков, поднимая кухонный наряд, вставал часов в пять. Высокого роста, здоровый,не смотря на то, что потерял килограммов пятьдесят, он весил ещё под семьдесят — и чуть не задавил меня этим весом, наступив спросонья на живот. Я начал тут же терять сознание, не мог даже крикнуть, и постой он ещё несколько секунд — отдал бы богу душу. В тот же день я опять начал падать в обмороки. Лёва, больше заботясь о месте у печки, чем обо мне, упросил Качковского забрать меня в лазарет. Смутно помню, что вёл меня туда Олег, сам я уже не мог подняться из силосной ямы, подъём мне казался выше Эльбруса. По пути я попрощался с ним: «Не выживу», но он поднял меня одной рукой поперёк туловища и отнёс на место: «Держи себя в руках!» Вечерело. Лазарет был переполнен, рядом со мною лежал труп рабочего-ставропольца, похороны которого отложили до утра. Сил переползти у меня не было, да и ползти было некуда — так и пролежал рядом с ним чуть не в обнимку до самого рассвета. За ночь выпал снег, сырость пронизывала не то что до костей, но и сами кости, тем более, что они у нас были наружу. В блиндаже у входа стояла печь, но грелись и сушили обувь у неё только чеченцы:вечерами они сбивались в кучу и горланили песни. Даже не зная чеченского языка, можно было догадаться, что они восхваляли Аллаха, Дудаева и, наверное, весь чеченский народ. Среди пленных был мулла, к нему относились с почтением все. И сам он к пленным относился доброжелательно, постоянно подбадривал, советовал крепиться и верить, что обмен уже не за горами. Часто передавал нам в угол блиндажа сигареты, хотя сам и не курил. Охраны у входа не было, но чтобы выйти по нужде, надо было спрашивать разрешения у пленных чеченцев — иногда это было сделать невозможно: четыре раза в день чеченцы молились, и тогда появляться в проходе было нельзя. Но всё это я увидел позднее, а пока я медленно умирал — и это почувствовал, так как не было сил даже произнести слово. Я подозвал Виталика Боксарова, работника «Ростовэнерго» и, с трудом ворочая языком, передал ему последнюю просьбу: обязательно побывать в Волгодонске и передать моей жене и детям, что последние мои мысли были о них, и что я сделал всё, чтобы выжить. Пусть мой сын знает, что я не был слабее духом тех, кто до конца пройдёт этот кошмар: обстоятельства бывают выше. И я потерял сознание. Позже, анализируя все детали пленения, позволившие из всех волгодонцев выжить только шестерым, я пришёл к выводу о жизненной верности пословицы: «Пока толстый сохнет — худой сдохнет»: из тех шестерых пятеро имели первоначальный вес»в среднем, около 90, и только у меня — 63 килограмма. А в тот день память вернулась ко мне с того момента, когда Виталик влил мне какую-то солёную жидкость. Очнувшись, я пил её взахлёб, а спустя некоторое время он принёс мне ещё — и вкуснее этой оживляющей жидкости для меня не было на свете ничего другого. Позже я узнал, что, потеряв сознание, я начал биться в конвульсиях. Качковский приподнял ноги, подложил под них полено, я сказал: «Всё. Финиш. Вот-вот отключится мозг…». Но всё же он, зная, что в блиндаже командира отряда есть в аптечке полбутылочки глюкозы, попросил её. Дали всего полстакана, но дока поднапряг все свои извилины, подготовил солёную смесь: глюкоза, кипяток, сода и соль — я навсегда запомнил эти спасительные компоненты. Соль нужна, чтобы глюкоза быстрее усваивалась в организме. Моё воскрешение даже сам Качковский считал чудом. Окончательно я пришёл в себя 19 апреля — и этот день не забуду: открыв глаза, увидел яркий свет в дверном проёме блиндажа. Почувствовал в себе силу, внутреннюю силу, готовую сопротивляться и жить — дотянулся до костылей и тихонько стал выбираться к выходу. Увидев меня, один из чеченцев крикнул: — Куда ты прёшь, доходяга?Ляг в свой угол и издыхай! -Не трогай, пусть пройдёт — возразил другой — Хоть на солнце глянет. А день был действительно великолепен: ни ветерка, ни тучки, солнце припекает, молодая сочная зелень на земле, и деревья со свежими, вкусными листочками, и мировая, казалось, тишина. Я долго стоял у блиндажа, вдыхая этот чудесный воздух , даже на ощупь чувствовал, насколько я истощён: провалившиеся глаза, кости лица выпирали. Ко мне подошёл Костя, теперь уже Казбек, Лимонов: — Что, армяшка, ещё не сдох? — Ещё поживу, — отвечал я — Не время мне, видно, помереть, Но ещё долго я буду болтаться между жизнью и смертью: ещё не один раз меня будут бить судороги… Кашу нам, лазаретным, варили отдельно, долго и тщательно её разваривая — и это для меня, беззубого, особенно было важно. Доскребали кастрюли всегда по очереди — и все жадно глазели на счастливчика: казалось, что в этот раз остатков на стенках и днище особенно много. Единственный, кто вполне спокойно относился к еде, был Кадигроб Сергей Сергеевич — его взяли в плен только в начале апреля. Вначале объявили, что он лётчик, но после допросов выяснилось, что он всего-навсего бывший лётчик гражданской авиации. Как и почему он в это сплошное время оказался в Чечне — я так и не понял. Был он огромного роста, здоровенный мужик, за 140 килограмм весом. В первые недели свою порцию баланды он не доедал, специально оставляя её молодому Баксарову. Но пройдёт время — голод не тётка — и через три месяца, став кашеваром, он будет воровать муку с котла — поймается однажды с поличным, когда со своим другом Мухой будет лепить лепёшки у ручья. Муха — не кличка, фамилия паренька, который попал в плен тоже в апреле: поначалу он был очень напуган нашим видом, смотрел во все глаза, как на костлявых инопланетян — такая была пропасть-разница между его сытой розовой физиономией и нашими сморщенными старушечьими личиками. Тут, в блиндаже, я близко познакомился с капитаном Игорем Гусевым. Он был не настолько болен, чтоб находиться в лазарете, но Качковский, спасая его, поместил сюда, он и Саша Новожилов, который позже стал готовить еду для всех «госпитализированных», делились с ним своими порциями баланды — так офицеры выручали друг друга. Тут же оказался и Вавилов — проблемы с ногой у него усилились. Дока — доктор Качковский — ему внушал: «Надо двигаться, любой ценой двигаться, заставлять себя наступать на больную ногу», но Николай твердил, что это выше его сил. Мочился он уже в своём углу… В один из солнечных предмайских дней всех нас вывели на поляну погреться. Вытащили и Вавилова: самостоятельно передвигаться он уже не мог. Чеченцы предупредили его, что если не перестанет мочиться в блиндаже, они его расстреляют. В тот же день я увидел наших ребят:их вели на работу — они, окликнув, сказали, что уж не думали увидеть меня живым, сообщили, что похоронили Прохорова, Циханского, Кривцова… Такие были нерадостные вести — нас становилось всё меньше и меньше, и не только волгодонцев. Утром следующего дня не проснулся Вавилов — не успели чеченцы его расстрелять. В день его похорон я горько плакал, плакал от бессилия и злобы, что не могу даже дойти до его могилы. Через несколько дней к нам в лазарет привели Иванина и Будко — у обоих распухли, отказали ноги. Их привели вовремя, а вот Решетникова через день доставили совсем плохим — вечером он был с нами, ещё поел каши с таким аппетитом, что я, было, подумал; выправится, с ним всё будет хорошо. Но это были издержки голода: перед смертью он так поел — утром его уже хоронили. Дни стали гораздо теплее, я ожил, стал чаще выходить на воздух, специально просился в туалет и задерживался у блиндажа, курил бычки, хотя Качковский и ругал, грозил всех курильщиков отправить в общую силосную яму. Но курить, как ни странно, хотелось невмоготу. Со стороны это показалось бы дикостью: дойти до такого состояния — и курить, курить даже под угрозой отправки в смертельную яму. Но курение как-то успокаивало нервы, глушило голод. Я выползал на поляну, грелся на солнышке, ел пчёл и шмелей, которых удавалось поймать. Кусочек хлеба казался верхов блаженства. Пленным чеченцам обед варил Качковский, он и питался с ними. У них была и мука, и картошка, и крупа. В одну из ночей я рискнул: тише мыши подполз к их мешку и украл банку муки. Сергей Баксаров ночами топил печь и подшивал рваную обувь чеченцев. Как-то он занемог, и я подменил его у печи. А сейчас, стащив муку, я вскипятил воду в своём котелке, развел в нём добычу — и этот клейстер мы с Баксаровым съели вдвоём. Ничего вкуснее для нас в то время не могло быть. Другой ночью я подполз к лекарствам, которые Качковский хранил на полке и, перепробовав на язык, стащил горсть наиболее вкусных, мятных, типа аэрона. Мы с Баксаровым ели их так и добавляли в кашу, когда не было соли. К нам, в верхний блиндаж, стали наведываться Скублицкий — работник «Ростовэнерго», и дагестанец Муджид: их подкармливали из котла пленных чеченцев. Объяснялось это просто: они решили принять «истинную веру» — благо, мулла был тут же. Дело оставалось за малым — они зубрили молитвы. Глядя, как они жадно поглощают выделенные им остатки от чеченской кухни, не было никаких сомнений, ради чего эти двое пожелали стать мусульманами. среди охранников появился новенький, подошёл ко мне: — Это ты Карапет? — Да. — Откуда будешь? — Из Волгодонска. — А родители где? — В Грузии, в Батуми. Оказалось, что спрашивает он не зря: сам тоже житель Грузии, из Нового Афона. Поговорили немного по- грузински. Затем я спросил, не знает ли он Сергея Эксудяна из Афона, все звали его Экис; мы вместе служили в армии, потом работали докерами в Ленинградском порту. Оказалось, что охранник Адам его знает, и довольно-таки хорошо. Я спел ему по заказу несколько песен и напоследок попросил, ради общего нашего знакомого, добыть мне немного соли. Адам сказал, что с питанием у них тоже проблемы, но он попробует. На следующий день после построения он незаметно вручил мне небольшой пакетик соли, одну луковицу, грамм сто хлеба. Я поблагодарил его. Мой старый друг Экис, который находился в сотнях километров, сам не подозревая того, помог мне выжить:эту луковицу и хлеб я съел сам, вспоминая старую поговорку: «Чем дальше в лес — своя рубашка ближе к телу». В один из вечеров, а может быть и ночью, я проснулся от шума в блиндаже. В тусклом свете фонаря увидел человека с листком бумаги; он подсаживался к каждому пленному, спрашивал фамилию, имя, воинскую часть или строительное подразделение, место жительства. Напоследок приободрил, сказав, что нас скоро отсюда заберут на обмен. Нас удивил не сам факт переписи пленных, а доброжелательный тон, которым он с нами беседовал.Нам уже не верилось, что этому кошмару придёт конец. На нас невозможно было смотреть без содрогания: такое раньше нам приходилось видеть только в документальных фильмах об узниках фашистских концлагерей. Кончились запасы крупы, несколько дней питались одной варёной черемшой. Потом чеченцы подстрелили дикого кабана — но если мы в лазарете хоть увидели кусочек мяса в своей миске, то ребята в силосной яме хлебали пустую воду с черемшой. Так и осталось неясным, кто же съел этого кабана, если чеченцы свинину не едят… Я окрепнастолько, что был переведён в яму. Но до этого лагерь покинул Салман – он и не скрывал, что скоро будет в Кабарде,даже спросил у Бансарова его адрес, обещал навестить его жену и передать ей письмо Сергея. Мотив его рейда я узнал позже, вернее, догадался о том: после ухода Салмана тихо и незаметно исчез капитан Тарасов — его обменяли, и Салман ходил за выкупом в размере 30 тысяч долларов. Позднее вскроется, что Тарасов — не настоящая его фамилия, и что сам он — офицер ФСБ. И всё руководство этого отряда попадёт в опалу, так как обмен они совершили без санкции своего начальства. Но именно это и спасёт нас. Уже погибли Дудаев, а вместе с ним и Прокурор, лично которому подчинялся этот отряд. В день своей гибели Прокурор посетил наш лагерь, добравшись по грязи верхом на коне. Провёл несколько допросов, а через несколько часов после его ухода в лагерь поступило известие ,что он погиб , вместе с Дудаевым. Я хорошо помню тот день, перепуганного Муху, которого чеченцы чуть не разорвали — именно с ним последним беседовал Прокурор, и было подозрение, что он мог подкинуть какой-то маяк для наведения ракеты на цель. Но потом выяснилось, что генерала Дудаева накрыла ракета после того, как он вышел на связь по своему спутниковому телефону… И вот я снова в силосной яме, где стало гораздо свободнее. Нас, волгодонцев осталось десять человек. Половина, не считая двух сбежавших. В один из дней меня подозвал Салман, рядом с ним стоял Хохол. И на вопрос Салмана, о чём мы договорились Хохлом в первую ночь, в подвале школы в Старом Ачхое, я, не сомневаясь, всё рассказал. В принципе, я, поняв, что Хохол попал в какой-то переплёт или надоел боевикам, как сомнительный балласт, рассказал правду, но, в выгодном для меня свете, добавив к рассказу о сестре, что Хохол приехал в Чечню подзаработать воюя. Хохол ерепенился, перебивал, но Салман сказал: «Ладно, разберёмся». Затем он, со своей неизменной плёткой, несколько раз водил Хохла в лес, и тот с каждым днём становился мрачнее и мрачнее. И вот мы услышали голос Салмана у входа в яму: «Армян, вот вам Хохол — он что-то темнит и путается. Делайте с ним, что хотите» — и того затолкнули в яму, он присел у входа и затих. Меня всего затрясло, я взвыл от злости: вот эта сволочь в подвале школы не дала нам возможности подкрепить свои силы — а теперь среди нас столько погибших от голода: Циханский, Вавилов, Кравцов, Решетников, Прохор… Я схватил полено, и стал исступлённо бить Хохла куда попало. Ко мне присоединился Скляр — накануне он просил у меня прощения за то, что поддался влиянию Хохла, за разлад в бригаде. Хохол, обхватив голову руками, скулил: «Пожалуйста, ребята, не бейте, у меня голова болит» На его темени появился свежий кровоподтёк. Может мы бы его и забили до смерти, если бы он хоть как-то сопротивлялся. А убить человека, который просит о пощаде и скулит, оказывается, нелегко, даже такого подлого ,как этот, под фамилией Соколовский . Мы прекратили его бить, но он, притихнув, так и остался сидеть в проходе. Скляр решил наказать старого лагерника ещё по своему: провёл членом по его губам и объявил, что с этой минуты Хохол опущенный, короче, педераст. Топчан, который соорудил Хохол, занял я — на нём, на куске фанеры в стороне от прохода, можно было лежать, свернувшись калачиком, Так мы встретили май: были погожие солнечные дни, нас выводили на поляну, где мы, раздеваясь догола, давили вшей — от них не было спасу. Единственный раз они покинули меня, все до единого, в лазарете, когда я умирал. И если говорят, что вши покидают умерших — это правда, но только в том случае, если смерть наступает внезапно. У «ходячих трупов» они до последнего, обитают строго на кровеносных сосудах, остальное тело уже для них мертво. Последние вши меня покинули на шее со стороны затылка — видно, там пролегают сосуды, снабжающие мозг кровью, последней кровью. Но в моём случае они ошиблись — ошиблись, конечно, благодаря Качковскому. В лагерь прибыли два крытых грузовика ГАЗ-66. Все с нетерпением ждали 9 мая — я даже поспорил с капитаном Гусевым, что в этот день нас освободят. Но машины всё стояли на окраине лагеря, одну из них ремонтировали. Других изменений в лагерной жизни не было: всё так же почти каждый день хоронили умерших, ели баланду без соли, мёрзли по ночам, и давили вшей тёплыми днями. Но вдруг, как гром среди майского неба: построение, не по утреннему расписанию. Машины завелись и стояли наготове, урча моторами. Все перешёптывались в ликующей надежде: «Едем, едем!» К пленным вышли командиры отряда, былоясно, что все пленные не поместятся в две машины: нас ещё было около восьмидесяти человек — половина от колонны, вышедшей со Старого Ачхоя 16 марта. Особист прошёлся вдоль строя, со злостью поглядывая на измождённых пленных. Он выводил тех, кто должен был следовать к машинам, в которые уже погрузиликастрюли, миски и прочий скарб. Отбирались старики, больные. Вот он поравнялся со мной — зло прищурился, и прошёл мимо. Было объявлено, что оставшиеся будутвывезены завтра, но все понимали, что здесь кроется нечто другое: уже который день в командирском блиндаже шли какие-то разборки. Резвон был не в духе, а его бойцы — тем более, особенно молодой Исса. Выведенные из строя ковыляли к машинам, остальные с завистью смотрели им вслед. Грузовики уже были забиты до отказа, когда ко мне подошёл Салман и кивком головы показал на машину. Командир и особист стояли, беседуя, в стороне. Я, усердно работая костылём, заторопился к машине, меня втащили в кузов, чеченцы спешили и машины, посигналив, тут же тронулись в путь. Было около полудня 8 мая. Последнее, что я увидел, прижатый к заднему борту машины, — это группа пленных, уныло смотревших вслед, и Салмана, стоявшего посреди дороги с плёткой в руках. Ехали мы долго глухими лесными дорогами, раскисшими от дождя, несколько раз машины застревали. Посреди дороги нас высадили у горного ручья, мы скинули с себя всю одежду, нам выдали несколько кусков мыла, но вода в ручье была ледяной — мы помылись, как могли. Подъехала другая машина — в ней было сменное бельё, но на всех не хватило: из строя выводили по очереди, пока дошла моя, одеть было нечего. Мне достался только прорезиненный плащ — и я неделю буду ходить по лесу голым в плаще до колен. Хорошо, что я сумел еще сохранить резиновые сапоги. Уже в кромешной темноте мы подъехали на место — как я ни пытался сойти с машины, мне это не удавалось: не помогал и костыль. Меня просто столкнули и я кулём шлёпнулся на землю, не умея подняться без посторонней помощи. Кругом стояли чеченцы с фонариками, они с удивлением и жалостью смотрели на нас. Полуживых скелетов им, видно, встречать ещё не приходилось. В первую ночь нас загнали в такой тесный блиндаж, что мы не могли не только повернуться, но даже дышать было трудно. Утром пять человек не поднялись – открыли счёт могилам нового российского кладбища. Завтрак превзошёл все наши ожидания: каша густая, настоящая, на маргарине и ещё сладкий чай с лепёшкой. Новый полевой командир Зелимхан объявил, что переговорный процесс с Россией, завердён, договорились обменять всех и пленных на всех, невзирая на количество: мол, в этом и была загвоздка, а теперь, через неделю, будете дома. Нашей радости не было предела. Новый лагерь, где нам предстояло прожить эту «неделю1.располагался на поляне вдоль глубокого оврага, на дне которого протекал шумный ручей. Края оврага были обрывистыми, особенно наш склон со стороны поляны. Там, у Самого края обрыва, был вырыт второй блиндаж — видно, так было легче сбрасывать землю в овраг. С двух сторон поляны располагались чеченцы, выше по склону, прямо у родника, был блиндаж особиста Славы, ходившего в черно-белой тюбетейке. На поляне был сооружён навес, типа летней кухни, и ещё один навес для продовольствия и часового. Противоположные склоны оврага плавно переходили в лес. Мимо нас по солнечной поляне проходили боевики, молодые, шумные, делились с нами сигаретами, запомнился один круглолицый светловолосый чеченец, который извинялся, что не курит, но обещал стрельнуть сигарет у своих друзей — и приносил, подбадривал нас. На построении Зелимхан прочитал весь список пленных, указал порядок стро, отдельно контрактники, отдельно солдаты срочной службы, затем группы ставропольцев, волгодонцев, саратовцев… Затем он объявил, что за наше предыдущее содержание он ответственности не несёт, а виновные ответят перед Аллахом. С его слов, за грубые нарушения, а особенно за продажу офицера 5СБ без санкции, трое руководителей предыдущего отряда были приговорены к расстрелу. Среди них он назвал и Салмана, затем добавил, что один из них успел скрыться — и это тоже был Салман. На мой вопрос, какое отношение имеют гражданские лица к обмену военнопленных, он с горячностью южанина отвечал, что питает лучшие чувства к солдатам-срочникам, чем к строителям: «Солдаты — это дети, которых сюда пригнали под присягой, а вы погнались за длинным рублём, отмывая тем самым деньги, выделенные Чечне за разрушенные объекты. Вы зарабатываете — упорно и хлёстко продолжал он — по три миллиона рублей, ваше начальство — десятки, а выше — списывают сотни и тысячи от их миллионов и миллиардов, наживаясь на вас, как на пушечном мясе. Вам там, в России, по полгода зарплату не платят, но вы молчите, едете сюда на живые деньги. А мы и без вас тут управимся, оставьте нас в покое». Так мы с ним и познакомились. Это был серьёзный, грамотный мужик. В этом отряде побоев уже не было, провинившихся пригрозили сажать в яму: в первую очередь нарушителем считался тот, кто покидал пределы поляны. Первым,не пошло уж за какую провинность, в яму посадили Муджида. Хохол сидел ото всех отдельно, как опущенный, и мысли его были далеки от свободы Чечни. Оборудовали столовую и отхожее место. В кашевары, в отсутствие Олега Зенкова, пробились ставропольцы братья Войтенко — среди боевиков оказались знакомые, у которых они содержались в плену ещё осенью. Приехали оставшиеся ребята — почти все они были избиты.из наших особенно досталось Гранковскому, Березину, Скляренко и Иванину. Но питание, тепло, нормальное отношение боевиков выправило всё — мы целыми днями сидели на поляне и мечтали о свободе. Директор Василий Васильевич, почуяв близкое освобождение, начал входить в свою руководящую роль, рассуждал, как выйдет из создавшегося положения.Ему всё не верилось, что работы на ТЭЦ-2 больше не ведутся, хотя его и уверили, что она разбомблена; он всё говорил о формах, которые ему надо подписать для начисления зарплаты, и которые уже были подписаны, но, остались в бытовке в ночь на 16 января. Через день после нашего захвата в плен на ТЭЦ должна была прибыть ещё одна группа работников АОЗТ «Гермес-Юг».И сколько бы мы его ни уверяли, что после нас никто там работать не будет, ему не хотелось в это верить. Лёжа на сене, которого привезли на поляну целую машину, он рассказывал, что по приезду домой через три дня выедет в Москву. Сначала купит «Макдоналдс», а затем постарается выправить положение фирмы, и вовсе выкрутится, создав новую строительную организацию: он надеялся, что выплаты семьям погибших, конечно же, без слов возьмёт на себя государство — ведь трезвонило же оно на весь мир, что территория Чечни находится под контролем российских войск. Но мы так и не узнали от него, кто же является учредителем АОЗТ «Гермес-Юг»… А насчёт армии я бы оказал так: какое государство, такая и армия — в больном государстве больная армия. Я видел в Грозном голодных и замызганных солдат, контролирующих свой блок-пост: они были способны защитить только себя — это в лучшем случае, и то лишь в дневное время суток. Были бравшие мзду за проезд из Грозного… В плену была масса солдат-дезертиров, многие попали в плен, обменивая патроны на водку или тушёнку. Был даже такой, который бил себя в грудь и говорил, что он сдал боевикам БМП, ипоначалу очень удивлялся, почему его обижают в плену после такого геройства. Ни имени, ни фамилии его я не знаю — его так и звали: БМП. В конце концов, его «отблагодарили» — к своему несчастью он быв контрактником, и в мае его расстреляли. Видно, поэтому в Чечню отправляли ОМОН со всех концов России, так как генералы знали, что такое наши войска в данный момент и физически, и морально. Олег Зенков, подполковник погранвойск, говорил мне: «Больше ни дня не стану служить в этой армии». Наиболее здоровый и авторитетный, в плену он старался поддерживать в первую очередь солдат, оставаясь им наставником, учил, как выжить. Так было до самого конца плена, до октября.Нас -строителей, это злило, намказалось, что это несправедливо — лично я кричал, что мы – работяги — в двойном плену. Но каждый помогал своим: врач Качковский, лечивший и пленных, и боевиков, питался с чеченцами и умудрялся подкармливать своих солдат и офицеров. В самом страшном Медвежьем ущелье он продержал Игоря Гусева в так называемом лазарете, не давая ему ослабеть. Но и каждый извыживших был обязан ему, тем, что дожил до свободы — обо мне и говорить нечего: не будь Качковского, лежать бы мне в том Медвежьем урочище. Кухонный наряд, состоявший из ставропольцев, стал чаще других бегать в туалет -это было явно заметно всем нам, сидящим и лежащим вдоль единственной тропы к нему. Особенно отличались братья Войтенко. Эти ребята дорвались до маргарина, который выдавался для добавки в кашу в эти относительно благополучныемайские дни, когда нас кормили три раза в день; пусть и перловка, но всегда с солью. Давали чай почти сладкий: трёхлитровая банка сахара на день на всех восемьдесят человек.И он тоже распределялся неравномерно…Но все это продлится недолго: продукты скоро иссякнут, а обмена так и не будет. От группы волгодонцев в кухонный наряд мы выдвинули Толика Паршакова, ноего там оттеснили от котла, назначили водоносом — её доставляли из ручья в овраге, а в нашем состоянии нести вёдра с водой, ох, как нелегко. Так что Паршаков просто ел усиленную кухонную пайку, а с нами мог поделиться только сигаретами. Позднее, когда мы питались в основном грибами, он подходил к нашему костру и просил поделиться: такой вот кормодобытчик. Я не удержался и пристыдил его: — Что же ты, Толя, все своим помогают, а ты бы хоть горсть крупы подкинул нам в это варево или соли. — Не могу- отвечал он — Совесть не позволяет красть у всех. Так уж воспитан… Но позже, высоко в горах, когда он уже не будет кухонным работником, голод заставит его стащить порцию каши у повара Назарова, и он, получив несколько увесистых оплеух, пообещал подобного не повторять. Есть люди, которое могут рискнуть на благо друзей, а есть такие, что только во благо себе — что ж такова жизнь. Но пока было относительно нормальное существование: черемша, крапива, грибы, перловка — для дистрофиков это не самая лучшая еда, но день и ночь мы теперь думали о другом: обмен, свобода, дом, семьи, которые мыпокинули в поисках заработков. Пошли разговоры, что перемирие, мол,было просто ходом Москвы в связи с июньскими выборами президента — нам не хотелось в это верить, но это было так. Как-то к пленным подошли утром два боевика, позвали Хохла и Муджида, и повели их в сторону лесистого ущелья. Больше мы их не видели. Позже Росляков, собирая дрова, найдёт в лесу армейскую фляжку Хохла, а около фляжки два свежих захоронения. Так бесславно закончит свою жизнь этот подонок со звучной фамилией Соколовский. А вот почему прикончили Муджида – вопрос на засыпку… Скорее всего, за мародёрство. Шла последняя декада мая, уже позади были все сроки объявленного обмена, но никто из руководства в лагерь не приезжал. Каждый вечер мы ложились спать в надежде, что это будет последняя ночь, проведённая в плену. Многих это расслабило. Я боялся застудить опухшие ноги и притащил кусок ватного одеяла: укутывал ими ступни. Ушли на обмен подполковник ФСБ и Игорь Гусев, подполковник был чуть живой, не говорил уже, а только мычал, не умея передвигаться без посторонней помощи, хотя он был с нами только с апреля. За Гусева я был особенно рад: вышло так, как я ему и предсказывал — в мае он будет дома. От него мне достался ватник — и это было удачей по сравнению с первыми днями, когда в плаще и резиновых сапогах я отогревался только днём на солнечной поляне. Скляр, спавший рядом со мной, постоянно выпрашивал на ночь, то фуфайку, то коврик, то одеяло. Я давал ему, но объяснял, что в полусотне метров от нас валяется выброшенное одеяло, местами прожжённое, но вполне пригодное. Но он вспоминал о том только прохладными вечерами, когда мы укладывались спать строго по рядам. Вставать ночью разрешалось только с позволения охраны, которая периодически обходила поляну с мощным фонариком. Наконец появился чеченец, объявил, что переговоры об обмене затягиваются, сегодня обменяют только военнослужащих-контрактников. Ох, как мы им завидовали! Пятнадцать человек прощались с нами, на огрызках бумаги писали адреса друг друга. Молодыепарни двадцати-тридцати лет, которым удалось в числе немногих выжить за 4-5 зимних месяцев пленения. Шестнадцатым в той групке был пожилой учитель, сын которого, как мы позже узнали, служил в ФСБ. И вот подкатил микроавтобус, они уехали в сопровождении нескольких боевиков, среди, которых были Клочков и Лимонов. Спустя неделитри рано утром я, незаметно выскользнув из лагеря, собирал грибы — это я делал, не спросясь, почти каждый день. Рисковал, но голод гонял меня в поисках съестного. Я носился вокруг лагеря, уже приметив грибные места. И вот, сбежав вниз по косогору, примерно в километре от лагеря, почувствовал, что грунт подо мною колышется. Я пригляделся — это, без сомнения, было свежее захоронение: было оно неглубоким, яма примерно три на три метра была присыпана землёй и листьями. Страшная догадка пронизала мой мозг: это же солдаты-контрактники! Их увозили как раз в этом направлении. Мне вспомнились неоднократные заявления чеченцев, что пленные контрактники обмену не подлежат. Я стоял на них, понимая, что обмена не было и нет, что война не окончена, и сколько нам ещё находиться в плену — неизвестно. На обратном пути я нарвался на оцепление. Сначала чеченцы меня чуть не подстрелили, приняв за кабана или медведя, затем, ударив несколько раз, привели в лагерь. Вечером это стало известно полевому командиру, и я услышал зычный голос Зелимхана: «Где этот армян?» Он подлетел ко мне, замахнулся, но не ударил- я стоял, не уворачиваясь, и может это, а может, мой истощённый вид остановили его. Он обругал, предупредил, что в следующий раз отправит меня в яму — я обещал ему больше не отлучаться, но, разумеется, через день или два я вновь на полчасика или час покидал лагерь, чтобы набрать грибов к нашему костру. Чаще всего я это делал по утрам, до подъёма, отпросившись у охранника в туалет. Часовой не мог утром уследить за всеми, просчитать, сколько прошло в туалет, и сколько вернулось. Да всё это их и не волновало особенно, так как перед завтраком проводилось построение. Березин и Росляков заготавливали дрова — это были наиболее крепкие из волгодонцев — я попросил их нарвать черемши, но они отказались, сославшись на запрет, хотя, пользуясь своей относительной свободой, собирали её, но только для себя. Я много раз и сам, рискуя, покидал пределы лагеря, ходил за черемшой — и несколько раз попадался всегда небритому вечно угрюмому чеченцу. Он с явным удовольствием пинал меня, грозился вовсе прибить, но не сдавал командиру… Я немного окреп, мог уже спеть три-четыре песни подряд — и боевики, свободные от караула, стали вызывать меня к навесу, где они отдыхали. По их разговорам я понял, что обмен не то что откладывается, а вообще прекращён, и когда мы попадём, если попадём, домой — неизвестно. Несколько раз вызывали нашего директора Гранковского — он сказал нам, что чеченцы требуют за нас выкуп, хотят, чтоб он написал письмо в Волгодонск с просьбой о выделении назначенной суммы, плакался, что таких денег у фирмынет (позже мы узнали, что «Гермес-Юг» имел гораздо больше той выкупной суммы). Вместо письма в Волгодонск Гранковский отправил письмо в Новочеркасск атаману Всевеликого Войска Донского Козицыну, где просил оказать помощь в вызволении оставшихся в живых земляков. Однажды меня подозвал к навесу один из охранников, там я увидел коробкис маргарином. Один был пуст — синий целлофановый мешок небрежно зачищенный, валялся в стороне, — Хочешь, открою тебе маленькую тайну — сказал я молоденькому боевику — Кухонные работники сплошь ставропольцы, и та часть маргарина, что вы нам выделяете в кашу, распределяется, мягко говоря, непропорционально.И если ты позволишь отдать нам, волгодонцам, остатки с этого пакета, то в некотором роде,восстановить справедливость. — Ну, ты и дипломат — улыбнулся он — Бери, но я проверю, как ты поделился. Я взял не только пакет, но и собрал все кусочки маргарина, которое были у ящиков. Никогда в жизни я не скрёб так тщательно целлофан, собирая остатки, но к обеду обошёл всех наших ребят и каждому добавил в кашу по ложке маргарина. С Березиным, Росляковым и Скляром делился, конечно, без удовольствия. Солдаты начали рыть новый блиндаж, к ним добавились наиболее крепкие строители — им выделялась усиленная пайка. Запасы круп кончались.Каша снова я стала жидкой, и часто опять без соли. Спасала черемша и крапива — их мы добавляли в варево. Кто-то изобрёл «сникерс»- лакомство – листочки крапивы заворачивались в листья конского щавеля и пеклись на костре. Буквально в нескольких десятках метров от границы лагеря росли огромные вишнёвые деревья, каких я никогда не видел: по стволу их трудно было отличить от ореха и бука. Ягоды мелкие, горьковатые, но вполне съедобные Я просыпался раньше всех и с рассветом отправлялся в туалет, успевая набрать почет пол консервной банки вишни. Конечно, трудно было удержаться, что бы неполакомиться тут же, но я собирал и на чай. Мы, волгодонцы, стали и днём отлучаться под вишнёвые деревья, где при ветреной погоде много созревших ягод падало на землю. Но скоро вишни закончились. Зато грибов становилось больше ибольше. Ставропольцы у соседнего костра, варили их в коробе из-под патронов — им было легче – они ходили за дровами. А нам помогал Олег Зенков: после каждого похода за грибами он их выбраковывал – по его уральским понятиям съедобными были белые, подберезовики, подосиновикии сыроежки. Мы же ели всё подряд, кроме белой поганки и всю выбраковку, в том числе ломаные, червивые и неизвестные я забирал и приносил к нашему костру. Варили их и пекли- особенно вкусными были печёные сыроежки — в них было какое-то количество солей. Но тут на нас обрушилось новое испытание: началась повальная дезинтерия. Прекратили добавлять крапиву в еду, вообще запретили собирать и есть черемшу -мол, она перецвела и в её листве накопились вредные вещества. Опятьпо утрам стали выносить из блиндажа мертвые тела — и тут, за ручьем, стало расти новое кладбище. Отец Сергий отпевал усопших, и, казалось, этому те будет конца. В этом, так сказатьсытом, лагере за два месяца мы оставили 17 могил, не считая контрактников. Только тут как-то удалось сплотить наш маленький коллектив волгодонцев. Правда, Березин и Росляков выживали отдельно. Паршаков был при кухне, а Мишу Сныдко оттуда выжил Лёва Саруханян — и спорить с ним стало опасно: он завёл дружбу о Казбеком Лимоновым и другими боевиками, и при споре угрожал, что найдёт управу. Мы и сами друг с другом частенько спорили по пустякам: тот не так сказал, тотнерасслышал или не так понял… Психика была на пределе, мы ругались, мирились и снова ругались. До сих пор не забуду, какнакричал на безобидного Саню Гапоненко за то, что он до полудня не выходит из блиндажа, ничего не вносит в общий котёл — и тут я повторил слова Качковского: «Хандра — это смерть!» Саруханан постоянно подсмеивался надо мной: «Что ты, как наседка или шестёрка, нянчишься с ними? Я бы на твоём месте давно жил припеваючи: ты больше всехобщаешься с боевиками, песни им поёшь — и не можешь за себя словечко молвить, к кухне пробиться?» Я отвечал, что мы — одна бригада и нам ещёвстречаться в Волгодонске не раз придётся, если, конечно, выживем… Отца Сергия чеченцы часто звали к себе в блиндаж -он человек грамотный — академия за плечами, да и коран знал получше многих мусульман. Особенно имльстило то, что отец Сергий был лично знаком с окружением генерала Дудаева, а так же с принцами и султанами Эмиратов, Сирии, Судана и так далее.В свои 33 года,где он только не побывал по дедам церкви: Женева,Париж, Ливия, Турция… Целые дни он проводил в беседах с боевиками, часто ел у них и тогда свою порцию он неизменно оставлял нам, волгодонцам, тайно приносил соль, а мы делились с ним грибами. Саруханян всячески старался настроить нас против отца Сергия, но мне очень нравилось беседовать с Сергеем Борисовичем (Жигулин была его фамилия). В этой затянувшейся стрессовой ситуации мне хотелось разобраться, понять логику происходящего. Конечно, не на все мои вопросы мог ответить отец Сергий, но ответ на один мне запомнился — я спросил, почему христианский дух так подавлен, пусть это плен, но ведь и в бою чеченцы меньшим числом бьют российские войска? Может это из-за того, что они ведут праведную войну освободительную:эти горы — их дом, а мы посягнули на святое — на их землю… — Дух россиян подавлен не здесь, а в России. Но в силе духа христианского можешь не сомневаться – уверенно отвечал мой собеседник.Она проявляется в минуты крайние. И если дойдёт русский мужик до крайности — ничего его из остановит. А сейчас пока что вниз по наклонной катится Россия и из-за богатства своего и широты никак не может понять, что пора остановиться. Но неизбежно Россия докатится до той пропасти, когда сама, увидев ту бездну, куда может упасть, ужаснётся и гигантскими усилиями, невероятными скачками станет навёрстывать упущенное. Но и тогда и сейчас, когда пишу, я думаю: где этот край у России, если она такая бескрайняя? Всю страну разграбили, всё, что можно продать- продали, а пропить – пропили. Голодает и нищенствует народ, который является хозяином четверти чернозёмных богатств планеты. Может уже пора призвать к ответу, может уже началось? Вон в Сибири и на Дальнем Востоке рабочие и шахтёры поднялись на защиту своих прав. Но готов ли весь народ бороться за справедливость? Я думаю -нет. Опять его обманут. У меня такое ощущение, что всё идёт по чьему-то сценарию, всё продумано не несколько ходов вперёд. Я живу в гуще народа, который зовётся россияне, почти на самом дне, и вижу следующее: часть народа хочет урвать себе любыми средствами кусочек; другая часть, отключившись мозгами от жизни, пьёт и пьёт, чтоб забыться, не помнить, не знатькак и зачем живёт, и, очнувшись с похмелья, ужаснуться и снова запить. Свобода таким не по плечу. Третья часть – созерцатели.Это, в основном, пенсионеры: отдайте им положеное, а дальше как хотите – при нас, мол, такого не было. А мне всегда хочется ответить: что строили — к тому и пришли это имеет прямое отношение и к Чечне — ведь бомбу замедленного действия подложил ещё Сталин, выселив чеченцев, всех до единого в Казахстан: выросло озлобленное несправедливостью поколение. А ведь обвинять людей по национальному признаку – нелепо и преступно, но мы это сделали и к нам оно и вернулось: теперь самые жестокие преступные группировки – чеченские. Этого мы добились сами. Всё идет, наверное, по сценарию: битва за передел собственности завершилась. И что же видит наша молодёжь?Своих родителей, на которых чаще всего, смотрит с укором, потомучто те не хапнули ничего. Надо учиться, поступать в техникумы, университеты, но это теперь не да всех: это деньги. Не завершились лишь криминальные дележи и разборки — вот туда и устремляется молодёжь. А впереди ещё раздел земли — какие бы не устанавливались препоны, но к земле придут, захватив, закупив её лучшие доли, те, кем сейчас так пугают крестьян: кто успел хапнуть, урвать, нажиться. Поживём, как говорится,увидим… За выборами в президенты в плену мы следили по радио – несколько раз нам позволили послушать новости. Отец Сергий никак не соглашался со мной, что Зюганов наберёт большое количество голосов. Я же не исключал, что он может выиграть и стать президентом. Но им остался Ельцин, и я понял, насколько москвичи далеки от народа: я работал в столице перед вахтой в Грозный – своих рабочих там почти нет, москвичи всю черновую работу уступают приезжим. Зачем горбатиться за два миллиона целый месяц по двенадцать часов, если можно, имея столичную прописку, столько же заработать охранником, сторожем, продавцом. А если проявить инициативу — то и намного больше. По большому счёту москвичам неведомо слово «безработица»: Москва — это Москва, государство в государстве, а Россия — отдельная обочина. Гранковоковскому становилось хуже и хуже, он постоянно кашлял, с трудом передвигался, в хорошую погоду целыми днями сидел у костра. Будко и Гапоненко ухаживали за ним, как за малым дитём.Порой и кормили с ложечки. Мы понимали, что директору надо выжить: «Гермес-Юг» — предприятие крошечное и чтобы чего-то по возвращении получить на лечение, нам нужен был директор, который прошёл через всё вместе с нами. Курить мы ему не позволяли. Чеченцы тоже были заинтересованы в его жизни, даже в самые голодные дни выделяли ему кусок лепёшки… Василии Васильевич спросил нас, не будем ли мы против, если освободят его одного и он — в Волгодонске, в Ростове-на-Дону, в Москве — будет искать средства для освобождения. Мы были не против, мы вообще не знали, помнят ли где-нибудь о нас: ведь прошло уже почти полгода, за это время пленённых после нас строителей «Волгодонск-строя» уже выкупили, а о нас, казалось, совсем забыли… Но выйти на свободу Гранковскому, ни с нами, ни даже ранее нас, было не суждено: первый раз, когда в лагерь за ним ехала машина с особистом, она попала под обстрел — водитель был убит, пассажир ранен; а когда две недели спустя за ним вновь была направлена машина — Гранковского уже не было в живых: не дожил он ровно сутки, а доставь его чуть раньше в госпиталь — можно бы было спасти. А в лагере не уберёг директора и волшебный состав Качковского — глюкозу ему специально выдали чеченцы. Отца Сергия особенно тронула смерть Гранковского — он знал, что у того есть достаточная сумма для выкупа себя самого… Вслед за директором неожиданно похоронили и Скляренко: просто накануне утром он поднялся не осунувшимся (мывсе такими были), а провалившимся- глаза неимоверно запали, лицо отрешённое. От баланды он, как мы ни уговаривали, отказался, попил только чай. Вечером поменялся со мной местами — у него было лучшее место у стены, а к утру его не стало. А вот ВикторуБерезину удалось победить свою болезнь, а надопредставить, что такое дизентерия у дистрофика: голодающий уже полгода организм жаждет пищи днём и ночью, а тут обезвоживание. Березин выправился благодаря своему могучему здоровью, а потом пренебрег элементарными правилами: пил сырую воду, ел грибы в критический для своей жизни момент- голод был сильнее разума. Хоронили его солнечным июньским днём, шумели листвой зелёные деревья, яркая сочная трава, горный ручей, весело протекающий рядом, такая цветущая природа и свежая чёрная яма. Не хотелось верить, что мы все так, по одному уйдём в небытие. Но охранник с автоматом, поджидавший нас у кладбища, вернул к реальности, два раза пнув меня. Он, а это был всё тот же круглолицый смуглый здоровяк, что постоянно терроризировал меня, погнал нас в лагерь, даже не дав по пути нагнуться за грибами, а их вдоль ручья росло множество. Они в основном доставались солдатам,и это была заслуга Олега Зенкова: они ходили по воду к ручью. Да и отпускали их на сбор грибов чаще, так как они были покрепче — опять же благодаря лишнемучерпачку и грибам. Но Зенков здорово помогал и мне: я часто ходил за грибами вместе с ним, не говоря уже о грибных отходах с кухни, достававшихся нам – волгодонцам. Запомнилсьгрибная вылазка с Николаем Будко: мы набрели на заброшенную базу боевиков — в ущелье у ручья стояла вместительная полусгнившая палатка. Я сказал Николаю: «Тебе ещё жить и жить, отойди подальше, вдруг здесь заминировано, а я обследую её, может, найду что-нибудь съестное». И мои надежды оправдались: поживился полукилограммовой пачкой соли и несколькими кусками заплесневелого сыра. Мы его помыли в ручье, съели по кусочку, а остальное понесли к своему костру ребятам — и это был маленький праздник в глухом ущелье. Пошли проливные дожди, наш блиндаж основательно потёк; три дня мы спали мокрые, а по утрам с трудом разжигали костёр и грелись. Две ночи я укрывался целлофаном, который хранил в своей торбе, а затем мы соорудили подобие козырька, под которым укрывались вчетвером. В таких ситуациях мелочей не бывает: болеть нам было никак нельзя. Вскоре разжигать костры в лётную погоду запретили, чтоб не обнаружить место стоянки. Авиация, похоже, била квадратами – целыми днями слышались разрывы. А по радио выступал Ельцин — чеченцы нам специально дали послушать новости: президент говорил, что с сегодняшнего дня прекращаются бомбардировки Чечни, ни один самолёт не поднимется в воздух. А вокруг под его слова гремели разрывы. Грохотали они и во все последующие дни. Если верить Ельцину, то Чечню бомбила авиация Грузии или Азербайджана. А Зелимхан обронил перед утренним построением: «Вот и верьте своему президенту…Россия продаётся на каждом шагу и долго-долго вы ещё будете её продавать. А мы так жить как живёте вы, не хотим, потому и воевать будем до победы». Бомбёжки продолжались и продолжались. У нас уже не было сил и желания прятаться в блиндаж, когда нарастал шум приближающегося самолёта. Многие уже устали и не хватало сил постоянно вскакивать и бежать, но нас пинали, и гнали в укрытие. Особенно усердствовал Казбек Лимонов: среди оставшихся молодых охранников он чувствовал себя уверенно. Пути назад ему уже не было, его новая родина велела молиться старательно и выполнять все условия верующего мусульманина. В один из тёплых дней мы прощались с отцом Сергием — его обменивали на какого-то важного боевика, схваченного в России. Мы были от души рады за него — а он нам обещал не забывать, приложить все силы для нашего вызволения. И своё слово он сдержал: звонил в Волгодонск, выступал по телевидению, в том числе и в программе «Взгляд» — вносил свою лепту в прекращение этой необъявленной войны. На прощание мы с ним отошли в сторонку,и он попросил меня спеть для него любимую песню на слова Юрия Лозы: На маленьком плоту Сквозь бури, дым и грозы, Взяв лишь с собою грёзы И детскую мечту, Я тихо уплыву Лишь в дом проникнет полночь, Чтоб мыслями заполнить Дом, в котором я живу. Но мой плот, Сшитый из песен и слов, Всем моим бедам назло, Вовсе не так уж плох». Неожиданно решился вопрос с обменом большей части ставропольцев : чеченцы за них получили муку и крупы. Меня перевели в другой блиндаж, в тот, который вырыли солдаты. Саруханян Лёва в отсутствие отца Сергия пробился в блиндаж охраны, и только ночевал вместе с нами, остальное время готовя у печки еду для чеченцев и травя им тюремные байки и анекдоты. Полевого командира Зелимхана долгое время не было, он ушёл в горы готовить зимнюю базу, перед уходом объявив, что туда возьмём только военнопленных, а всех строителей обменяют до осени в любом случае, окончится война или нет. Но в его отсутствие всё спутали двое работников «Ростовэнерго»:Скублицкий, в апреле принявший мусульманство, и Росляков — они совершили побег где-то после десяти часов. В обед, который, кстати, впервые состоялся без переклички, мы заметили их отсутствие и, посоветовавшись, решили сказать охране, которой оставалось всего пять человек, а за четыре часа беглецы уже оторвались. Зам. полевого командира Саид был в бешенстве, мы чудом избежали побоев, но лишились возможности собирать грибы, а на подходе уже были грецкие орехи, которых в округе было превеликое множество. Чеченцы раньше нас убеждали, что охрана лагеря состоит из нескольких поясов, что вое прохода в ущелье заминированы.Но беглеце доказали обратное: уже на следующий день Саид сообщил, что оба они добрались до расположения российских войск, и отряд , опасаясь обнаружения, начал спешно готовиться в путь. Привели в порядок микроавтобус, куда усадили стариков, и тяжёлых больных и рано утром колонна ушла вверх по ущелью. Первую половину пути я проехал в автобусе, остальные подошли к вечеру неимоверно уставшими. Костры чеченцы разводить боялись, развели лишь один для себя.Возле него вертелся Лёва. Второй, попозже, разрешили развести и нам, но там верховодили ставропольцы и было ясно, что каши они наготовят только для себя, а у остальных – как получится. Мешки с перловкой находились тут же. Я подошёл к костру, где, сушил свои портянки Вагиф, спросил, можно ли пленным разжечь ещё один костёр, не всё ли равно, сколько их будет: два или три, а ребята хоть обсохнут маленько. Но охранник, обругав меня, прогнал: «Хватит вам и одного костра!» Вернулся я к обессиленным и мокрым своим ребятам. Они долго возмущались, но идти за разрешением жечь костёр никто не решался. И снова пошёл я. Вагиф, увидев на мне резиновые сапоги, снова прогнал, указав, что убьет, если увидит ещё раз. Не стану же я объяснять ему о хозяйничании у костра пленных ставропольцев, которые набивают кашей только свои желудки. И точно, кашу варили в два захода, Они ели первую,нормальную, сваренную перловку, а нам — волгодонцам — досталась сырая чуть горячая крупа. Я, уже привыкший к таким раскладам, спёр в темноте из мешка пару кило перловки, спрятал её в своей походной торбе. Земляк Лёва опять поучал меня как надо жить: «Ты же толковый парень, а всё хочешь пригреть других, ходишь доходягой. Надо думать только за себя — таковы извечные тюремные и зоновские правила». Чуть свет колонна отправилась далее в горы, через перевал; сначала подъём по склону, затем спуск. Местность открытая, изрезанная воронками — видно,частенько тут проходили боевики, а перевал контролировался с воздуха. Кое-где росли карликовые берёзы и кустарники. Идти в гору и здоровому тяжело, а дистрофикам многократно труднее. А нам было ещё тяжелее мы – дистрофики-шли в гору с грузом: котлы, миски, лампы, кули с провизией, соль… А я ещё нёс и своё барахло,с которым никак не хотел расставаться: плащ, запасные, брюки, всякие банки и среди всего — тщательно завязанный целлофановый пакет с крупой. Бросать ничего не хотелось — а знал, что приведут нас не в пятизвёздочный отель. Колонна пленных растянулась, шли из последних сил; на одном перевале все боялись российских «вертушек»- накрой они- укрыться практически негде. Я плёлся в хвосте, собирая улиток — решил по прибытию их попробовать. А было их по земле очень много – небольшие свежие улитки в своём скорлупочном домике… Я собирал их горстями и рассовавал по карманам. Иногда попадался дикий щавель, его кисловатые листья приятно освежали рот. Я не заметил, как оказался последним и как подошёл Вагиф: «А, это опять ты! Надоел ты мне, армянский недоносок! Подвернёшься ещё под руку- сброшу вот в эту пропасть» Он что-то кричал ещё, но я его не слушал, в ушах и без того звенело. Сделали привал, съели по кусочку хлеба, покурили по кругу. И вот, наконец,вершина: голый, абсолютно пустынный хребет перевала. Были б туристами-любоваться и радоваться бы прекрасному пейзажу, а мы, задыхаясь, жаждали воды. Кто-то из чеченцев оказал, что за перевалом будет ручей. Туда вело множество тропок, которые становились круче и круче. И вот он, ручей. Я падаю на землю и пью, пью с небольшими перерывами. Пью много, потому что знаю: мы у цели — внизу виднеется домик. Появляются пастухи на лошадях, поглядывают на всех с интересом, но поспешно удаляются. Стараясь не попадаться на глаза Вагифу, я подходил к домику, который расположился на склоне у ручья шириной не более двух метров: он с шумом нёсся по крутому склону.Вокруг дома, росли несколько деревьев алычи, а сам он состоял из двух небольших помещений для скота. Туда нас и загнали. Солдаты, офицеры и старики расположились в комнатах наверху, где были сколочены нары в два яруса из досок, покрытых овечей шерстью. В другой комнате стояла печь и такие же нары. Чуть ниже, невидимый за бугром, стоял ещё один домик — в нём поселилась охрана. Строители заняли помещение для скота. Первые дни ушли на оборудование жилища, закрылипологом вход, сколотили нары, набросали травы и мелких веток, а из крупных соорудили укрытие от ветра. В этом лагере был один, но очень важный недостаток — отсутствие дров. На их доставку уходило очень много сил, а дрова эти пожирали три печи: внизу, на верху и в домике охране. Я слышал, что пастухами тут были грузины, но когда меня подозвал Саид и я переговорил с их старшим растухом-бригадиром,ликованию моему не было предела! Самая высшая радость – радость человеческого общения, как говаривал Экзюпери. Как мог на грузинском, я объяснил,что вырос в Батуми, и сейчас у меня там прожививают мать, брат, родственники… Узнав, что я никакой не военный, а пленный монтажник, грузин очень удивился и на мою просьбу помочь земляку откдикнулся с желанием, сказал, что с командиром Залимхнеом они друзья и как только тот приедет сюда, переговорит и заберёт меня к себе: «Тебя подкормить надо, будешь пасти скот. Не бойся, потерпи недельку» — и ускакал, на прощание угостив меня сигаретой. Но через несколько дней пришла весть, что бригадира пастухов убили на перевале. Паёк с каждым днём становился скуднее. Ходили за грибами, но их тут было мало и мы собирали крапиву и поедали её мешками, ели также лебеду и конский щавель. А я поедал и сырых улиток, и жареных на печке вместе со скорлупой. Посоветовал и всем волгодонцам, которых оставалось уже шестеро, делать то же самое. Первого хомячка, которого мы подали, я, зажарив, поделил на двоих — больше желающих не оказалось. А второго ели уже вчетвером.Мне, как инициатору и изготовителю, досталась задняя часть тушки. И еще запомнился эпизод, когда меня, истопника, мои друзья-волгодонцы уговорили лечь поспать, а сами ночью наварили на печи какой-то еда: то ли улиток, то ли перловки с крапивой. Кто-то из саратовцев доложил повару.И на следующий день Олег Назаров высказал мне, что волгодонцев всех надо наказать и к печке не подпускать. Моё дежурство у печи давало нам кое-какие преимущества. Я хотел, смягчить вину, вернее, наказание ребят и уговорил Назарова: «Ради Бога, не дай им раз добавки по очереди (это лишний черпак при зачистке котла), а я лично больше не доверю место истопника, вот и всё наказание». И ребята,не обмолвившись мне ни словом о собранном вчера пакете улиток, придяс работ, услышали, что Карапет, сказал Базарову, чтоб их не кормили за ночную провинность. И сколько я не объяснял, что речь шла только о добавке- ничего помогало. Мы разругались вдрызг, я напомнил им о припрятанных от меня улитках и обо всём другом – и пошло и поехало! Эта размолвка продлится до конца плена, растянется на целых два месяца. Смешно и нелепо в условиях плена, но это так: бытовые мелочи играют громадную, иногда решающую роль. Но ещё раз, уже в сентябре мне преподаст урок Саня Иванин, урок под названием «Чем дальше я лес – своя рубашка ближе к телу». Рабочей силы становилось меньше и меньшее. У многих распухали, отказывали ноги – видно, не работали почки. Ко всему добавился страх атаки с воздуха. В один изсолнечных дней мы стали свидетелями, как шесть российских вертолётов штурмовали невидимый нам объект, в одной из соседних вершин — они сделали по несколько заходов, и я представляю ЧТО там осталось после стольких огневых залпов. Теперь еду мы варили только ночами, а ночи в горах црохладные, особенно в наших хлипких, продуваемых жилищах. Курили мы листья крапивы, конопли, берёзы… В один из дней я подозвал к выходу — Саню Иванова,сказал, что если нас продержат до сентября, мы погибнем: еды всё меньше, с каждым днем все более чахнем. Толю Паршакова избили за то, что он съел кашу из миски Олега Назарова — повар мог себе позволить недоесть и отложить порцию на ночь… Человек, готовящий еду, всё равно получает больше пайки — это реальность: и я, будучи истопником, не досыпал ночами у печи, на которой варилась каша, выхлопотал себе лишний черпак, мотивируя тем, что невозможно голодному топить печь, на которой варится столь желанное варево. Это была постоянная перловка — да ещё я по многу раз старался дегустировать, проверяя готовность пищи. Перешли на разовое питание: мисочка баланды в день. Голодные, в большинствебеззубые, мы с жадностью глотали эту горячую несолёную смесь, но проку от этого было мало. Больше сытости давала крапива, которая, кстати, не опротивела – мы её уваривали часами: потом пили горячий настой и зелень. Полгода я почти беспрерывно поглощал крапиву — и теперь, спустя годы после плена, заметил, что у меня почернели усы, перестали выпадать волосы, которые до этого лезли катастрофически. Но это единственная и несущественная польза моему организму. Но вернёмся к разговору с Иванины. Я сказал ему, что до Грузии тут недалеко: пастух-грузин сообщил мне, что да Ахметского района всего два дневных перехода. Я предлагал Иванину побег, рассчитав, что бежать надо ближе к вечеру – ночью в погоню не пустятся: охрана малочисленна и преследовать максимум, будут двое. Бежать надо не вниз, по склону, а на юг, к Грузии- через многочисленные холмы, заросшие кустарником и лесом. Главное — отпроситься за грибами после полудня, и сделать до вечера отрыв, а там, при луне, можно двигаться и ночью. А в Грузии, при моём приличном знании их языка, мы бы уж не пропали. Иванин был не против, но я сказал ему, чтобы он не доводил план побега до наших ребят, пока у меня не спадёт опухоль на ногах.В запасе у меня имелся коробок с несколькими спичками, немного соли и крупы, а также котелок, с которым не расставался с марта. Томителые дни ожидания. Но опухоль не спадала, иаоборот, левая нот пухла всё больше, начала чернеть. И не у меня первого — у саратовца Димы Дмитриева (кстати, их из 27 человек,захваченных в плен, осталось только трое: самому молодому – Ломовскому -было 47 лет) уже темнели ноги: дока определил – термоожогу печи – распухшие ноги перегрелись. Началось воспаление, абсцесс. Качковский выделил ему таблеток, запретил находиться у печи — саратовцу становилось хуже и хуже, он уже бредил, но постоянно ковылял на костыляхк печи, лично я в свои ночные дежурства много раз с ним скандалил, прогоняя прочь. Он промучился несколько суток и а одну из ночей умер. Хоронили мы его в дождливую погоду, несли вчетвером метров за тртста. Четыре дистрофика пока ещё живых, несли пятого, взявшись каждый за одну из конечностей.Голова при этом тащилась по земле. Я держал его за руку и как ни старался приподнять голову повыше, не получалось: не хватало сил. У ручья под деревом вырыли неглубокую могилу, закопали, помолчали — мы тогда ещё не знали, что это будет последний погибший пленный из нашего отряда, а оставалось нас ещё около сорока чедовек. Ошибку Дмитриева повторил и я — и не мудрено: был-то я у печки в резиновых сапогах, к тому же задремал и перегрел опухшую ногу. На следущий день, до полудня, я ещё смог в поисках грибов проковылять в соседний лесок, к тому же Олег Зенков сообщил, что там есть и земляника. Чеченцы отпустили нас на пару часов — и до сих пор я благодарен Зенкову за те дикие, мелкие и такие вкусные тогда ягоды. Я, ликуя, елземлянику по одной, ел, собирая, пригоршнями — и уверен, что в тот день я сильно укрепил свой организм перед предстоящей схваткой с недугом, фактически, со смертью. Доковыляв с прогулки, я заметил, что не могу ступать на левую ногу — а к утру она уже пылала, внутри шло характерное подёргивание: абсцесс или, как подтвердил дока, термоожёг. Опухоль поднялась выше колена, с каждым боль становилась всё нестерпимей. Дока сказал, что нужных таблеток нет, дал какие есть: «Может, полегчает». Обмотав ногу тряпьём, я еле ковылял на костыле. Зенков проявил инициативу — и мне выделили место наверху, где освободилось место Лёвы Саруханяна: он перешёл в домик к боевикам; да ещё двое солдат, из наиболее ходячих, подрабатывали у пастухов-грузин, питаясь там и умудряясь подкармливать своих. Принесли они соли и на общак, предварительно одарив своих и солью и табачком. Они же сообщили, что грузнины собираются покинуть горное пастбище из-за убийства своего бригадира, моего знакомого под странной для грузина фамилией Дудаев. Я огорчился до крайности. С трудом влезая с больной ногой на своё место на втором ярусе, хотя внизу спали относительно крепкие солдаты-срочники. Но это было в пределах здешней «самовыживательной» нормы: я был донельзя рад и этому месту — тут, на подстилке из овечьей шерсти, было намного теплее, чем в нижнем помещении. Появились два новых охранника, которых я увидел в один из вечеров, когда Олег Зенков предложил мне спуститься вниз, поиграть в карты. Два чеченца в передней комнате мирно беседовали с пленными. Одного звали Иссой, а другой, здоровяк Руслан, увидев меня, сказал: «Тебя, нерусский Жорка, я помню с того дня, как вы приехали в лагерь Зелимхана – ты тогда сушёным трупом упал с машины и не мог подняться. И когда утром сказали, что пятеро пленных умерли — я решил, что один из них непременно ты. А ты — живой, значит – выживешь». Эти ребята будут охранять нас до самого обмена. Руслан сразу почему-то окрестил меня земляком. То ли из-за того, что я, как сейчас принято обзывать, лицо кавказской национальности, то ли в роду у него был кто-то из армян. И вообще, не в пример другим, эти чеченцы оставили о себе самые лучшие впечатления. С первого же дня они пообещали подстрелить кабана — они тут каждую ночь хлопотали, хрюкали у ручья. Две ночи Руслан караулил у ручья впустую,а на третью,удача улыбнулась Качковскому, бывшему с ним на пару. Половину туши мы съели в течение суток, а вторую чеченцы обменяли у грузин себе на барашка. Это был самый сытый день нашего плена, три раза мы ели кашу со свининой. Правда, жира в диком кабане нету и в помино, но всё равно сытно. Даещё при разделке туши мы умудрились срезать с неё хвост, уши, соски — и ночью лакомились, поджаривая в печке. Но это был всего лишь однодневный миг в многомесячном голодном кошмаре. Голод влиял и на психику, и на поведение — отупение и озлобление на всех. Длительный голод — это ад, и надо иметь очень больщое мужество, чтобы покончить счёты с жизнью до того, когда истощение окончательно сломит тебя, когда ты перестанешь быть самим собой.Голод не давал нам насладиться той красотой гор, среди которых мы находились. Мысль постоянная одна — о еде, о самосохранении, о побеге. Только там, в горах Чечни, я по-настоящему понял, почему в фильмах о пиратах, которых оставляли провинившихся на голом острове — те с мольбой кричат им вослед: лучше убейте! Видно раньше люди имели большее представление о голоде, голодной смерти. Приехал командир Зелимхан, осмотрел место стоянки — и остался недоволен. Учитывая обстановку в Грозном, война могла затянуться, а зимовать с таким количеством пленных здесь было невозможно. Дороги завалены, добраться сюда можно только на лошадях, и провизии на всех не завезти. Дров поблизости нет. Место очень уязвимое от авиации — эти рассуждения Зелимхана действовали на нас угнетающе. Мы прекрасно понимали, что если война не закончится, мы неминуемо погибнем; второй зимы нам не пережить, мы и лета толком в горах не видели. Командир отобрал наиболее здоровых пленных — это были, в основном, военнослужащие, и увёл их строить новый лагерь вблизи фермы, пообещав, что там будет вдоволь молока. Желающих было хоть отбавляй, но ушли только десять человек, и в их составе Олег Зенков и, главное, дока Виктор Качковский. Сборы были такими поспешными, что дока и не осмотрел напоследок мою ногу, оставляя меня один на один с такой проблемой. Да и что он мог сделать, если из медикаментов имелись только мазь и ненужные таблетки — они остались на нижнем ярусе, куда, поближе к печке, я перебрался с уходом группы. Мы уже растягивали последние крохи. Рядом, в домике охраны, так же голодали чеченцы-боевики. Припасы кончались. Все ждали вестей об обмене или подвоза крупы и соли. В ясную погоду нас с утра выгоняли в ближайшие заросли, где мы должны были лежать весь день — боялись налёта авиации. Ели там кислую алычу, которая поспела в этих высокогорных местах: выше 2500 метров над уровнем моря. Алычу мы стряхивали с деревьев, а когда она перестала падать, мы с жадностью взирали вверх, истощение, бессилие не позволяли влезть на деревце. К тому же это нам запрещалось Однажды я не вытерпел и, подгягиваясь на руках, изловчился взобраться наверх, где набрал алычи в целлофановый пакет. Вечером, когда мы ковыляли к домику, чеченцы, прятавшеиеся на противоположной стороне ручья, допытывались, кто это посмел маячить на дереве? Вычислили меня по одежде, удавились, как это с такой больной ногой мне удалось лазить по веткам, а Казбек Лимнов не упустил случая влепить мне затрещину.Надежды мои на то, что опухоль на ноге спадёт, не сбылись. Нога с каждым днём чернела всё более. Нас посетил Вагиф, который после контузии болел и появлялся редко. Он сообщил, что скоро будет переход, а увидев меня, ковыляющего на одной ноге, сказал, что тащить меня никто не намерен: «Сразу сброшу тебя в пропасть — вот и все дела». Я и сам понимал, что с больной ногой нужно что-то, предпринимать — хотя и не было никакой раны, но вся она, опухшая, как тумба, стала сплошного красноватого цвета и не давала уснуть уже две ночи. Утром в долину к нам спустились Руслан и Исса, я подошёл к ним и попросил для лечения ноги кусочек хлеба, щепотку соли и луковицу — они пообещали передать, непреминув пошутить: «Хитрый армян, из лекарств выбрал всё съестное!» И действительно, хлеба мы уже давно не видели, а луковица и у боевиков была в дефиците. То ли в шеутку, то ли всерьёз наказали они Мухе присмотреть, чтобы я не съел эти продукты. А я уже понимал, что без хирургического вмешательства не обойтись. Решимости предавала печальная участь саратовца Дмитриева… Я уже запасся старым бритвенным лезвием, постирал тряпку для перевязки. Для сбора нагноения в одно место, я разжевал хлебной мякиш, заправил его солью и приложил на голень в таком месте, где бы в дальнейшем было удобно резать. Через два-три часа я менял хлеб па печёную луковицу, потом на разжёванный лист подорожника, тоже заправленный солью. К вечеру следующего дня на том месте у меня образовалась шишка величиной с куриное яйцо. Пора было действовать. Но перед этим мне изрядно пришлось поругаться с обитателями соседней комнаты, которые упрекали, что работать некому, а ноги у многих распухли и надо разграничить не только пайки на рабочие и нерабочие, но и курево — его надо выдавать только тем, кто способен трудиться. … Отверстие в ноге затнеяея только в Волгодонске – после пары перевязок с антибиотиками всё заживёт как на собаке. А пока дока перебинтовал ногу, накладывая единственную имеющуюся мазь от ожогов… Новый лагерь располагался в ущелье – место было выбрано идеально: с трёх сторон лесистые склоны гор, с четвёртой – река. Проход в ущелье был только с одной стороны, и тропка обрывалась у самого низа — там стояла деревянная лестница, у которой был вырыт блиндаж чеченцев, дальше сооружался барак для пленных.Глядя на это основательное убежище, я испытывал двоякое чувство: чеченцы хотели, чтобы мы смогли выжить и в зимних условиях, но с другой стороны именно это и угнетало – улетучивались надежды на скорое освобождение. В небольшом отдалении от лагеря находилась ферма – может десятка два коров. Хозяйничал там Лёва, выглядел он уже справненьким: молоко, сметана, хлеб, мясо пошли ему на пользу. Первые дни и мы надеялись на молочные продукты, но эта ферма стояла не для откармливания пленных. Побывав впоследствии на ферме, я узнал от своего земляка Лёвы, что молоко перегонялось в сметану, изготавливался сыр и закладывался на хранение в бочку. А нам на всех выделялось выдро молока в день, а чаще – простокваши. но и это распределялось, как всегда, неравномерно. Ходившие работать на ферму солдаты. тайком приносили трогор, который делился среди своих, да и новый повар Кадигроб Сергей усиленно страрался отъесться. Дошло до того, что чеченцы уже сами контролировали раздачу пайка: «Почему вы, русские, стараетесь урвать друг у друга? Что вы за нация такая? Хотя бы уж в плену спохватилиь…». По вечерам к нам в барак часто приходил Исса, приносил конфеты, сухари, а то и тушёнку, раздавал всё это наиболее слабым, на его взгляд. Недалеко от лагеря была плантация культивированной конопли, на сбор которой по утрам уходило пять-шесть человек. Рядом с развалинами разрушенного при бомбёжке дома росли алыча, слива, груши. И когда, мне удавалось отпроситься за грибами, я делал небольшой крюк и выходил к тем деревьям, набирал алычи и груши-дички недоспелой, вяжущей, но мы её пекли на печке и поедали в неимоверноем количестве. В один из дней к бараку подбежали возбужденные Руслан и Исса, сказали, что подстрелили медведя. Наиболее здоровые ребята во главе с Олегом Зенковым притащили тушу – это была крупная, по местным меркам, медведица.Радость наша была безмерна, но лично для меня всё обернулось как нельзя хуже. тушу разделывали у блиндажа с боевиками. Солдатам доверили промыть потроха, почки, лёгкие. Другаягруппа обмывала разделанное мясо медведицы. Я подошёл к одному из солдат и выпросил кусочек мяса с детскую ладошку, чтоб поджарить её на костре. Уж не знаю, то ли из уважения, то ли чтоб быстрее отстал, он сунул мне кусок мяса: «Уходибыстрей, чтоб никто не заметил». Вечерело, я у костра жарил мясо, запах поджариеваемого щекотал ноздри всех собравшихся — такая мечта голодающего уже более полугода чоловека! Я понимал, что на всех не хватит. Не зная как это объяснить голодым людям, поделил на четверых своих – на большее щедрости не хватило. Тут к костру подошёл Филиппыч, пленный из работников «Ростовэнерго» с которым в предыдущем лагере у меня уже была стычка: он постоянно ныл, что никто из нас не выживет, что все мы поочерёдно поляжем в этих местах. Я наорал на него, чтоб он не портил настроение другим, а он упрекнул моей постоянной пословицей: «Чем дальше в лес — своя рубнашка ближе к телу», а также тем, что я постоянно убегал в лес за грибами, воровал у чеченцев крупу, муку, картoшку. Я ответил, да это всё рискованно, но ценой риска была жизнь, а ради неё всегда стоит рисковать. Дело тогда у нас дошло до драки… В этот раз Филиппыч держал в руках медвежьи когти, губы и нос. На мой вопрос: «Откуда это?» он отвечал, что чеченцы отдали ему шкуру, чтобы он отнес подальше и закопал. Я удивился, зная, что шкура для охотника всегда ценный трофей, но потом подумал, что сейчас чеченцам не до шкуры, да и нехватка соли. Мыуже съели свои кусочки, когда добрый Филиппыч выделил на всех две медвежьих лапы. Я заметил на них соль и спросил: — Ты, случайно не спёр эту шкуру? — Я не дурак, знаю, что это может быть. Проходившемумимо Олегу Зенкову я предложил медвежий коготь на амулет, а два оставил два себя, решив один из них подарить Руслану. Но минут через пять к костру подбежали разъарённые чеченцы – они не могли представить собе,у кого могла подняться рука, так испортить шкуру медведицы. А так как Олег сказал, что коготь дал ему я, набросились на меня. Под горячую руку мне досталось несколько ударов по физиономии, но где шкура я ответить им не мог, сказал,что Филиппыч подсел к костру уже с отрезанными лапами. Но мои слова никто, из сидевших у костра, подтвердить не мог. Не захотели этого сделать и те, с кем я поделился мясом,а один из них был волгодонец… «Чем дальше в лес…» Только утром выяснилось, что Саид, увидев у блиндажа просоленую шкуру, приказал Филиппычу убрать ее подальше – из чего тот сделал вывод,что чеченцам она не нужна… Кадигроб при раздаче вместо мяса, а часть туши чеченцы выделили нам, со злой усмешкой подложил мне лапу медведицы: — Ешь на здоровье! — Оставляю тебе, и твоему прихлебателю Мухе — отвечал я, возвращая лапу. Так бы все я закончилось, не будь я злопамятен. Оставшаяся часть мяса хранилась в ведре в холодней воде. Выйдя рано утром умыться, я заметил вручье это большое ведро, почти доверху набитое мясом и накрытое тряпкой. Я оглянулся — никто меня не видел — схватил два куска, кинул их под куртку и зажал локтем. Отойдя на безопасное расстояние, спрятал мясо в расщелину. Но этого мне показалось мало, я вернулся в барак, взял свой целлофановый пакет и, улучив момент, вновь подскочил к ведру, накидав в пакет почти полведра мяса, а его склонил набок. Всё это заняло буквально 10-15 секунд. Долго потом гадали чеченцы и Кадигроб с кухонными прихлебателями куда девалось мясо: если ведро сбило течением, то куски дожны быть на дне реки вниз по течению — но в прозрачной воде их не нашли. Другие резонно уверяли, что мясо кто-то украл, но сырым не съест, а потому целую неделю контролировали поваров, и вынюхивали у костров… Я же его съел часть полусырым, наспех прожаренным на кострах, сооружённых из из сушняка в окрестностях лагеря, а часть прожаривал прямо на углях под листом металла, где пеклись груши. И хотя надзиратели множество раз подходили к костру, но так и не узнали, куда девалось мясо, не унюхали и запаха, так как его сбивали поджариваемые с их разрешения кости /при хорошей пережарке они становились, как сухари/. Так уж получилось, что от избытка удовольствия я поделился мясом с тем товарищем,что не вышел из строя, чтобы подтвердить нею невиновность в истории со шкурой… Построили баню, получидась прекрасная парилка. Первыми её опробовали чеченцы, затем и все мы — это было в первых числах сентября: значит, мы не мылись более семи месяцев. Когда я раздевался в предбаннике, то увидел как отвернулся охранявший нас чеченец, чтоб не видеть мои голые кости — такое он, наверное, видел впервые в жизни. Дока начал строительство медпункта рядом с блиндажом чеченцев. Но и это наводило на грустные мысли: значит и Качевский не исключал зимовки в лагере. И в один из заосеневших дней я сорвался, решив, что надежды на выживание не остаётся.Во мне накопилась сумрачная злость- злость на воровство поваров, на всю несправедливость с самого начала плена, нобольше всего на самого себя: на побег не было сил.Оставалось одно: покончить с собой, если выяснится, что зимовать всё-таки будем здесь. Это был, конечно, стресс, гнетущая безнадёжность, но внешне я оставался прежним и лишь Ояегу Зенкову, одному из немногих, кого я уважал, сказал, что не надо ни ножа, ни петли, чтоб покончить с собой: «Сброшусь с обрыва. Это ведь пустяк, надо только посметь оттолкнуться». Олег не мог меня переубедить, мы не имели никаких сведений о событиях в Грозном… Но чаще всего мне приходилось беседовать с Русланом — он в этом лагере был инициатором моих вызовов в блиндаж охраны. Звал он меня «Маленький» — от дословного перевода моего имени — угощал чаем с сахаром, а иногда и кашей из консервной банки. Я пел наиболее понравившиеся им песни. Вставлял и отвечавшие моему нынешнему настроению: Не матерись, не матерись – Сегодня я без спирта пьян: На материк, на материк Ушёлпоследний караван. Я до весны, до корабля Не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, А каненем, камнем ляжет мне на грудь». Правда, последний куплет я повторял ещё и по-своему: «Не доживу когда-нибудь. Я до кончины февраля: Не пухом будет мне земля Чеченским камнем ляжет мне на грудь» Слово «чеченский» я комкал, чтоб не обидеть Руслана, а когда он переспрашивал, говорил «чрезмерным». Беседовали о войне, о том, что Чечня выйдет из состава России — в этом никто из них не сомневался. За долгие месяцы плена я понял, что Россия воюет с народом, а не бандитами, не с отдельным кланом или отрядом, а именно с народом. И то, что в числе этого народа есть и уголовные группировки и отдельные мерзавцы, садисты и сволочи неменяет сути дела: итог войны был, по сути, предрешён ещё до ввода войск. Другой вопрос – сможет ли россия, если наступит перемирие, удержать в своём составе Чечню пряником? Нет, не сможет- и не потому что чеченцы не хотят пряника — они очень практичные люди – просто у России нет такого большого пряника, который бы соответствовал возросшему аппетиту чеченцев. — Политика и экономика — вещи, неразрывно связанные между собой — говорил Руслан — Глядя на разрушительное падение экономики России, чеченцы делали далеко идущие выводы: вплоть до распада России на отдельные «княжества», когда Кремль будет руководить только Московской областью, если не сделает надлежащих выводов. — Нечего ехать на заработки за тридевять земель – говорили другие чеченцы – Надо выходить на улицы, блокировать дороги, свергать преступный режим. — Да, президент, отдающий приказ бомбить города и села своей страны – это преступник — соглашался я — В России нет сплочённости кроме,разве что у шахтёров. Вам — чеченцам, — легче: сам образ жизни, уважение и подчинение старшим по тейпц (так называют родовые коаны) сплачивает. Решит совет старейшин – и поднимается вся нация от мала до велика. А в России – каждый за себя, профсоюзы коррумпированы. Нужны новые, истинно народные профсоюзы — но верхам это не надо, а низы сами не могут организоваться, а может им специально и не дают сплотиться соответствующие органы… Как-то вечером за чаем, Руслан мне сказал: «Ты, вроде, неплохой, грамотный мужик: не зря ж ты кавказец!» И, смеясь, добавил: « Правда, уже обрусевший, по-терянный…» Но знал бы ты, сколько прекрасных людей погибло из-за ввода российских войск в Чечню… Я не мог отвечать за действия нашего верховного главнокомандующего, нашего «мудрого» президента, но я был россиянином, а значит… Но нечего мне было возразить, кроме как сказать о нечеловеческом отношении к нам в ДГБ в первые месяцы плена: всё-таки погибли ни в чём не повинные люди, строители.В ответ он спросил: — Вот у тебя сыну десять, а дочери 21 год. А если б было наоборот и сына твоего призвали в армию, пригнали сюда убивать нас и наших детей? — Я не допустил бы этого: приказал бы сыну дезертировать. — Все вы так говорит, раз уж здесь, но ведь кто-то же с нами воюет, кто-то стреляет и убивает. Неужели у ни нет родителей? Пусть встанут, остановят войну. Вы, в России молчите, поэтому Шамилю Басаеву и приходится делать отчаянный рейд Буденновск, брать заложников – и будить Россию, показать, что мы не против умереть, но вместе о вашими детьми и родителями… Тот разговор был тяжёлый и закончился он словами Руслана: «Есть у меня к тебе уважение. Но по сравнению с моими друзьями, которые отдали свои жизни за свободу Чечни, ты – никто, ты их мизинца не стоишь. И закончим на этом…» Конечно, можно было бы и поспорить, сказать, что жизнь для всего народа России сейчас не сахар, что от политики Кремля пострадали все народы России, и больше всего уничтожено именно русской интеллигенции, что сам я родился в Сибири и до 76-го года практически являлсясыном врага. Но я не стал возражать — в его словах было много истины: плохо, когда наказан невинный, чудовищно наказывать народ, лишая его будущего /к тому же народы, которые преследуют, становятся самыми сплочёнными/. Я, конечно, мог бы найти и слабые места в его словах о даухсотлетней войне России против Чечни — ведь среди народов Кавказа Чечня имеет не лучшийрейтинг, в понятиях добрососедства многое остаётся спорным. Но я промолчал: охранник и пленный – этим всё сказано. Ответил отвлечённо: «Есть люди и есть нелюди. В любой ситуации, даже выясняя отношения с оружием, надо оставаться человеком. И чеченцы не исключение: есть среди них и те, и другие…» позже я узнал, что Руслану дали увольнение на несколько дней, чтобы он навестил семью в Ингушетии, но он отказался, мотивируя тем, что дал себе слово довести нас – пленников – до обмена, чтоб не попали мы под охрану нелюдей. Ведь он видел в мае каких нас привезли с ДГБ из отряда Резвона… Как-то на ферме после исполнения песон чеченцам, я разговаривал с Лёвой Саруханяном. Тут подошёл и стал в стороне незнакомый мне русский мужчина лет пятидесяти. — Кто это? — спросил я. — Михаил – отвечал мой земляк — Из Пензы. Уже почти пять лет тут битрачит, хотя и бежать пытался. Потом зашугали, пригрозили семью вырезать… Когда мы с Лёвой переговорили, подошёл тот мужчина и тихо попросил: «Спой мне, пожалуйста, что-нибудь истинно русское — и уточнил — Из Есенина…». У меня внутри что-то дрогнуло — и от молящего тона и потому что Есенин и у меня на одном из первых мест, и именно его, а не какую-то Пугачёву или там Киркорова, истосковавшись по родине,захотел послушать этот человек. И я запел первую, какая пришла на ум: « Не жалею, не зову, не плачу. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым…» Миша слушал молча, и лишь слёзы тихо катились по его загрубелым щекам. По окончании песни он проговорил: «Спасибо. И ещё одну, если знаешь: «Над окошком месяц, Под окошком ветер. Облетевший тополь Серебрист и светел…» Исполнил эту, и другие песни на стихи Есенина, которые помнил, а когда пропел: «Где-то плачет иволга, Схоронясь в дупло. Только мне не плачется На душе светло». Миша глухо зарыдал и, отчаянно махнув рукой, поплёлся в коровник. Но уже издали он повернулся и крикнул: «Может, только генерал Лебедь и выручит,вызволит нас». …Ночи стали холодней, дров на печки, включая парилку, требовалось больше и больше — на их заготовку бросили всех ходячих больных, и меня в том числе. Другие, по-здоровее, ходили на ферму и на сбор анаши: целыми днями пять-шесть человек натирали листья конопли в ладонях, добывая, таким образом, столь необходамое для чеченцев зелье. Наше существование становилось довольно сносным, хотя нас иногда и кормили комбикормом для скота — правда, с добавкой молока. Но все мы прекрасно понимали, что на носу холодная осень, и если нас не обменяют, то и здесь, у фермы, появятся могилы… Какими критериями руководствовались люди, занимавшиеся обменом, я не знаю, но в один из дней двоих строителей из Ставрополья повели на обмен — и на следующий день они вернулись понурые, сообщили нам, что их отказались вести двоих в столь дальний путь, по тому, как на днях ожидается полный обмен пленных. Затеплилась ещё одна надежда на скорое освобождение, хотя многие из нас твердили, что не поверят до тех пор, пока не окажутся среди своих. Но в этот раз было похоже на правду… И вот, в первых числах сентября, мы покинули и эту стоянку: рано утром тронулись в путь наиболее слабые. Выбирались из ущелья долго и трудно, карабкались по крутым склонам, скользили по намокшей траве. И только одно: жажда свободы и жизни вели нас вперёд, когда казалось, что сил уже нет. И откуда ей быть, силе в обтянутых кожей скелетах? Наиболее трудный участок был пройден — я оглянуяея назад и увидел неописуемой красоты ущелье: склоны гор, густо покрытые зеленью, чуть тронутые желтизной, туман, стелющийся слоями на разной высоте, ясное голубое небо. Где-то далеко внизу, у горного ручья осталась ферма — единственная стоянка, где мы не хоронили своих товарищей. Тут ко мне подошёл Руслан: «Красота Швейцарии. И эту красоту у нас хотели отобрать… Сколько человек полегло…»- на его глазах блеснули слёзы, и он отвернулся. Я почему-то опять, глянув окрест, вспомнил недавний эпизод, когда при несправедливой раздаче молока Руелан заметил с укором и удавлением: «Почему только охранники могут уследить за честностью раздачи? Что вы за народ такой, что и в неволе делитесь на своих, на саратовцев, на ставропольцев?» И ещё на этом высоком горном перевале я попытался оценить общую ситуацию: вот нас ведут на обмен. Война в Чечне закончилась бесславно для российских войск. И ведь в 1994 году генерал Дудаев, будучи президентом Чечни, восемь раз обращался к президенту Ельцыну с просьбой сесть за стол переговоров и решить существующие разногласия мирным путем. Тогда Кремль не согласился — Ельцин и Черномырдин посчитали унизительным вести переговоры с «каким-то генералом». Начали войну, нарушив собственную конституцию, но окрестив военные действия «операцией по наведению конституционного порядка. Затем сделали ставку на лже-лидера Доку Завгаева, которого поддерживали не более десяти процентов населения Чечни, и который «руководил» республикой с территории грозненского аэропорта под охраной российских войск, где всегда наготове стоял самолёт, чтобы спасти этого «президента» от своего народа… И вот Москва после почти двухлетней бойни согласилась на переговоры с бывшим заместителем генерала Дудаева Месхадовым- и, самое главное, никто теперь не будет признан виновным в том, что тысячи солдат сложили свои головы ни за что, а десятки тысяч мирных жителей погибли при бомбёжках обстрелах и обстрелах и многие ненерщ матерей с обеих сторон потерей своих ен. И многие тысячи матерей с обеих сторон потеряли своих сыновей. Но если у чеченских женщин есть хоть какое-то утешение, что их сыновья погибли, защищая свою землю, свой народ, то, каково российским матерям и жёнам: они никогда не поймут, за что сложили головы их дети и мужья? За чьи-то амбиции. Война в Чечне была проиграна ещё до того, как она началась: своим решением ввести войска в Грозный Ельцин объединил вокруг генерала Дудаева всю, такую разнородную оппозицию. У них теперь был общий враг: Россия. И чтобы понять всё это, я должен был находиться в плену столько долгих месяцев, где увидел и диких бандитов и религиозных фанатиков, и нормальных, преданных своему народу людей, патриотов своей земли…» Дальнейший путь наш лежал по горной дороге вниз — мы брели группами без охраны: мыслей о побеге не было. На одном из привалов развели костёр, но из-за нехватки дров он оказался слабым — обогреться и обсушиться удалось далеко не всем. Двинулись дальше — и вот впереди появились две крытых машины и военные в камуфляже. Мы не сразу поверили, что это российские солдаты — это были два водителя и подполковник. Тут же были и чеченские боевики. Подождали, когда подтянется вся колонна, и прибудут представители «Красного креста». Сказали, что мы теперь будем находиться под его защитой, и обмен произойдёт в ближайшие дни. радости нашей, конечно, не было предела, плюс к этому мы подкрепились, нет, это будет неверно сказано — мы лакомились цивильной пищей. Для всех нас вскрывались сухие пайки нового образца — таких не видели даже сами офицеры российской армии: тушёнка, галеты, кофе, изюм, печень трески — таков был суточный набор. Разумеется, каждай из нас умял бы этот набор в один присест, но нам раздали пакет на четверых. На раздаче стояли Олег Зенков и Лёва Саруханя /этот своего не упускал/, я клянчил у Зенкова лишнюю баночку тушёнки, но кроме двух конфет мне ничего не перепало. Представители «Красного Креста»с удавлением смотрели на ходячие скелеты, сами отказывались есть – и мне, перед самой погрузкой перепала булка хлеба. Целая булка хлеба!Но я поделился только с Виталиком. Вся несправедливость озлобила людей: уже здесь, перед обменом, едуделили по принципу: свой – своим. Зенков – офицерам, солдатам, Лёва — себе и своим дружкам… В этотдень мы думали, что завтра-послезавтра будем среди своих окончательно, но процедура обмена затянулась надолго. Мы погрузились в машины, тронулись по раскисшей от дождей дороге, часто застревали в ямах, даже пытались обессиленными руками вытаскивать машины из грязи. В общей сутолоке я попытался стащить упаковкусухого пайка из ящика, на которых мы сидели в кузове / кто был понаглее и порасторопнее, уже успели это сделать/, но меня заметил Олегг Зенков, забил тревогу — чеченцы перетащили ящики в кабину. Но всё это, конечно, были голодные последствия, пустяки по сравнению с самым главным: война окончена, нами занимается «Красный крест» и со дня на день нас обменяют. Но не зря говорят, быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается: восток -дело тонкое. Нас сначала привезли в посёлок то ли Григорианское, то Григорьевское — и там, во дворе усадьбы Супьяна, так звали чеченца, владеющего фермой, продержали двое суток. Прямо во дворе усадьбы нас встретили тележурналисты НТВ, засняли на видеоплёнку, у некоторых взяли интервью. Затем опять был тентованный КамАЗ — и вот мы уже в Грозном, на ТЭЦ-2. Для нас, работников АОЗТ «Гермес-Юг» круг замкнулся в том же месте, где и начался — круг длиною в восемь месяцев. Готовыми к обмену нас оставалось шестеро из двадцати… Привезли солдатское обмундирование, мы все переоделись в чистое. Питались сухими пайками, которые поставлял подполковник Прокопенко, заместитель генерала Лебедя, чьими миротворческими усилиями всё дело и решилось. Правда пайки делил опять же Лёва, и с каждым днём питание становилось хуже и хуже. Под охраной нас выводили на сбор грецких орехов — благо, пустующие дачи находились рядом. В наиболее голодные дни мы ели собак, которых чеченцы стреляли по ночам – и это были дни объедения. А выделявшиеся нам сухие пайки уходили на сторону — они были слишком хороши для наших животов. Я сам видел, как их грузили в машину особиста Славы. Нас посетили представители «Красного Креста» — все, кто пожелал, написали письма домой. Но многие не стали этого делать: нас столько раз за дни пленения обманывали, что мы до последнего не верили даже в возможность почтового сообщенения. Средиработников «Красного Креста» была женщина-врач, она оказала необходимую первую помощь нуждающимся. Через переводчика-поляка она, долго спорила со мной, доказывая, что рана на моей ноге огнестрельная. Еле убедил её, что это результат моей нехитрой операции. Но вот, наконец-то, процесс пошёл, как говаривал незабвенный Михаил Горбачёв — сначала мы попрощались с солдатами/их обменяли в первую очередь/, потом со ставропольцами, затем дошла очередь и до саратовцев — их всего-то и осталось … трое… И опять пауза в целых две недели. Мы страшно нервничали, опять и опять проклиная наше невезение. В отсутствии Руслана к нам часто заходил его друг Исса. На прощание он говорил нам: «Вот вы сейчас вернётесь домой после стольких мучений, и поймёте, что вы там, в России, никому не нужны, кроме ваших родных. Своё дело вы сделали: набили кошельки продажных политиков, но, поверьте мне, вы долго-долго будете добиваться, чтобы вам оплатили больничные, компенсации…если их вообще добьётесь… Это случилось 8 октября: к нашему вагончику на ТЭЦ-2 подъехал микроавтобус, на лобовом стекле которого красовался чёткий трафарет «Представительствогенерала Лебедя».За рулём сидел Мавлади. Вот он, долгожданный день! Мы едем в центр Грозного, где подбираем истинного водителя машины, предусмотрительно оставленного чеченцами, чтоб тот не узнал места расположения пленных. Мы едем через разрушенную столицу Чечни, мимо развалин домов. Подъехали к какому-то зданию, минутная пауза, охранники-чеченцы покидают автобус и к нему тут же устремляются наши солдаты. Долгожданный миг: мы обнимаемся, поздравляем друг друга. среди встречающих нас есть и представитель Лебедя и представитель губернатора Ростовской области Чуба, и инженер Алиматов из «Гермес-Юга», а также родители и родственники потерянных в этой войне ребят. Они окружили нас, засыпали вопросами. Николай Будко повернулся ко мне, зашептал: «Вон та женщина спрашивает за одного из контрактников, которых расстреляли ещё в мае — она же ничего не знает». А на площади перед зданием среди чеченских боевиков стоял откормленный Казбек /Константин/ Лимонов — одим из участников казни над теми ребятами. Через полгода чеченцы сдадутего, в числе других подобных, российским властям, вернее, обменяют его на своего — предатель он и есть предатель. Но доказать его причастность к расстрелам и побоям пленных, после которых наступала смерть, наши правоохранительные органы не смогли — и он теперь живёт припеваючи в небольшом городке нод Свердловском… После двух дней пребывания в грозненском госпитале нас усадили в вертолёт, затем пересадили в самолёт, и уже на автобусе из Ростова-на-Дону, где остались трое оставшихся в живых из шести работников «Ростовэнерго», мы в ночь на 13 октября приехали домой, в Волгодонск. Тяжелее всего было посещать семьи погибших товарищей – их было одиннадцать человек — более половины нашей бригады. В живых остались нас шестеро: Александр Гапоненко, Николай Будко, Александр Иванин, Михаил Снытко, Анатолий Паршаков, я, да трое совершивших побег: Андрей Паршаков, Андрей Васинский и Виктор Росляков — они все благополучно дошли до своих А все остальные остались лежать в чужой земле на разных кладбищах, откуда каждый из нас, где кто смог привезли в узелках чеченской земли и перенели каждой семье погибших. Предприятие, отправившее нас в командировку, судилось с нами, отрицая тот факт, что мы являемся его работниками, хотя на руках у нас будут трудовые соглашения – «Вы пришлые, не наши…». Им нужно было потянуть время, чтобы спасти оставшийся капитал. К нашему возвращению счета АОЗТ «Гермес-Юг» уже арестовали — жёны погибших ребят подали в суд иски на выплаты компенсаций, положенных по закону. У нас – вернувшихся – первоначальное упоение свободой быстро прошло – мы остались один на один со своими болячками и бедами. Суд признал ответчиками по выплате компенсаций сначала «Гермес-Юг», затем после апелляции, Минфин. Арест со счетов фирмы был сняли учредители«Гермес-Юга» быстренько ликвидировали эти деньги, «забыв» даже больничные листы оплатить своим бывшим работникам – исполнительные листы почему-то поступили в банк только на следующий день после ликвидации счетов. Всё делалось планомерно, не помогли ни походы к прокурору,ни даже угрозы судебному приставу Матвеевой. Теперь я уже знаю, что адвокат, защищавший интересы «Гермес-Юга» — бывший следователь прокуратуры. И он, наверное, немало заработал — но зэти деньги пахнут кровью. Ну а учредители «Гермес-Юг» погрели руки за счёт средств, выделенных казной. После первой, июньской вахты95-го в руководство ДМУ сообразили, какие бешеные суммы можно выхватить на грозненской ТЭЦ и подставили к кормушке счета «Гермес-Юга». Теперь эти учредители владеют квартирами, коттеджами в Волгодонске, Волгограде, Новочеркасске, имеют свои магазины. Короче, «новые русские», которым не зазорно наживать деньги на крови: для них деньги не пахнут, Ещё летом, когда мы находились в плену, от сбежавшего Виктора Рослякова выяснилось, что директор Василий Гранкевский погиб – учредители начали спасать имеющиеся на счету деньги: около двух миллиардов рублей- немалая по тем временам сумма. Анна Михайловна Гранковская, главный бухгалтер и один из соучредителей фирмы, с позволения или по указанию Хижнякова, бывшего тогда мэром Волгодонска, сняла 700 миллионов рублей- якобы навыкуп нас шестерых, оставшихся в живых заложников; на самом же деле никто за нас платить и не думал, в отличие от АО «Волгодонскстрой», руководители которого А.Ковалевский и А.Капендюхин сделали всё, чтобы вытащить из небытия, из неволи своих работников — они были в заложниках чуть больше двух месяцев и из 89 человек вернулись домой 85. В итоге денег «Гермес-Юга» не получили ни чеченцы, ни мы – дистрофики. Нам, впоследствии, оплатили лишь первый месяц пребывания в больнице. Ну, а учредителям удалось спасти и оставшуюся сумму- и обошлось им это, наверное, дорого: адвокат Авдеев целый месяц проживал в Москве, пока добился решения Басманного суда о признании ответчиком Минфина. Сейчас на дворе весна 99-го — из девяти волгодонцев, прошедших через этот ад и выживших, трое на инвалидности: Иванин и Сныдко на третьей группе, а у меня — вторая: я пригоден только к такой работе, как сторож… Прошло два с половиной года, с той поры как я вернулся — в тумбочкеу меня лежат решения суда о том, что травма у меня – производственная, ноя получаю пенсию по инвалидности, и то с задержками в несколько месяцев. Второе решение суда о том, что мне положено оплатить больничные листы; и третье — на выплату компенсации. Ни одно из них не исполняется в нашем правовом(пр-р-равовом д-д-демократическом) государстве. Мне начислили пенсию в 420 рублей — жизнь продолжается – хотя лично я считаю, что живу во второй раз. Иногда , даже собирая украдкой пустые бутылки, я бываю счастлив, но это редко — и вообще я считаю, что в России сейчас не может быть счастливых людей, когда кругом такая нищета и такое беззаконие. Часто вспоминаю слова отца Сергия о крае, к которому подойдёт народ России – и очнётся. Теперь я пытаюсь представить всех, с кем сталкиваюсь в жизни, в той заложнической ситуации, которую прошёл: каким бы он был на той грани между жизнью и смертью? Сейчас, когде я пишу эти строки, по телевизиру передают выступление Ельцина — он крикливо возмущён тем, что самолёты НАТО бомбят Югославию, говорит, что это недопустимо, когда гибнут невинные люди, заявляет, что все спорные вопросы нужно решать мирным путём. Лично я тоже не одобряю бомбардировки мирных городов и селений Югославии, но по сравнению с нашим президентом, я не отдавал четыре года назад приказа бомбить города и сёла собственной страны. Я хочу жить в государстве, где каждый человек отвечает за все свои поступки и преступления, в государстве, где правит закон и конституция. И я хочу, чтобы государство называлось Россия. More from my site |